




|


 |
|
|
|
Дезертир Автор: ZADUMAN Дата: 3 февраля 2026 Инцест, Драма, Измена, Зрелый возраст
 Елене Викторовне Ковалёвой было сорок два, когда её единственный сын Артём получил повестку. Она работала учительницей русского языка и литературы в местной школе. Тихая, аккуратная женщина, привыкшая к порядку и чужим детским бедам, но никогда не думавшая, что её собственная беда придёт в форме серой бумажки. Артём в детстве и юности был замкнутым, немного отстранённым от мира — худой мальчишка с вечно виноватыми глазами, который предпочитал книги и одиночество шумным компаниям. Когда начинался осенний призыв, у Елены с сыном, состоялся тяжелый разговор. Она убеждала Артема, не ходить в армию совсем. У неё была возможность матери, не пустить его, так как он единственный ребёнок. Но Артём сам настаивал идти служить, что бы не выглядеть ущербным, среди сверстников. 1 декабря 1995 года он уехал из их частного дома недалеко от Саратова в армию. Ни какие уговоры мамы и бабушки. не подействовали... Сначала, полгода учебки в подмосковном Климовске. Потом перевели в обычную часть в Аткарском районе Саратовской области. Писал домой коротко: всё нормально, кормят, не бьют, холода терпимые. В ноябре 1996-го дали первый и единственный отпуск — с 3 ноября по 14 е. Когда он переступил порог, Елена Викторовна сразу всё поняла: он сильно похудел, глаза ввалились, улыбка исчезла совсем. Сидели на кухне. Она налила чай, нарезала колбасу, специально купила к его приезду. Артём долго молчал, крутил ложку в стакане, она билась по стенкам, как колокол. Потом тихо сказал: — Мам… нас на контракт уговорили, после двух лет ещё на год службы. Она замерла с чашкой в руках. — Как уговорили? Ты же уже больше одиннадцати месяцев отслужил! Или поэтому и в отпуск пустили, что оставят на третий год? - Она села обессиленно, уронила руки. Он криво усмехнулся: — Обещали ближе к весне, но так выпало... тем кто "подписался". Этой осенью, когда о Чечне уже говорили в каждом доме, сердце Елены учащенно забилось. За окном шёл мокрый снег. Она посмотрела на него прямо и почти шёпотом сказала: — Артём… не пущу! Делай, что хочешь, ты у меня один! Хоть дезертиром становись...Только не туда. Ты единственный мужчина у матери... Он долго молчал. Потом поднял глаза, в них была только взрослая, усталая покорность. — А как я не поеду, мам? Если всех приказом отправят? Она заплакала: слёзы просто текли по щекам и собирались тяжелыми каплями на подбородке. Артём поднял глаза и взял её за руку. — Не плачь. Я постараюсь вернуться! Елена Викторовна подняла мокрое лицо и зашептала, срываясь на хрип: — У меня больше никого нет… Отец сгинул на заработках. Родственников особо нет, только пожилая мама. Этот дом родительский, и тот старенький, а если тебя потеряю… мне одна дорога в петлю. Накину верёвку в сенях и к тебе отправлюсь, так и знай, сына! Артём побледнел, губы посинели от волнения. Он кинулся на колени, схватил её холодные руки, стал целовать, — Мама, не говори так! Всё обойдётся… Может, и не отправят. Может, война кончится… эта никчёмная. — Нет, сынок, — она покачала головой, слёзы катились по щекам. — Чует сердце, ничего хорошего не будет. Всех заберут. А потом похоронки… или тишина. Она вцепилась в его запястья, ногти впились в кожу. — Оставайся! Ради бога! Я скажу, что ты уехал. Садись на автобус до Пензы, на первой остановке переоденешься в штатское — я приготовила, и назад. В сарае пересидишь. Никто не заметит. Бабушке тоже ничего не скажем. Она может проболтаться. Пожалуйста, сынок… Артём смотрел широко раскрытыми глазами. Для него, привыкшего слушаться взрослых и приказов командиров, такой шаг казался немыслимым. — Мама… это дезертирство. Семь лет минимум... Меня найдут. И тебя посадят. — Лучше десять лет живым, чем в яме без креста! Она прижалась лбом к его лбу, шептала задыхаясь: — Пощади мать… Я тебя растила, на руках носила… Не оставляй одну. Я не переживу. Артём закрыл глаза. Руки матери дрожали в его ладонях, и жалость к этой ещё молодой, но такой несчастной женщине резала сердце. — Мам… я не смогу… — прошептал он. — Обещай подумать. Обещай не уезжать сразу. Дай хоть несколько дней… побыть с тобой! Артём молчал. Утром, пока Артём ещё спал на стареньком диване в своей комнате, Елена собралась в погреб. Открыла тяжёлую крышку в полу главной комнаты, спустилась по шаткой деревянной лесенке. Там пахло сыростью, плесенью и забвением. Она вытаскивала банки со старыми закрутками — огурцы, помидоры, компоты, которые стояли здесь годами. Многие уже вздулись, крышки покрылись ржавчиной. Она без жалости выкидывала их в жестяное ведро, потом вынесла на улицу и вылила всё в выгребную яму за сараем. Потом долго проветривала. Выгребла паутину, подмела земляной пол, посыпала его свежим песком, чтобы не так сыро было. Притащила старый матрас, постелила чистое бельё, которое хранила «на всякий случай». Поставила керосиновую лампу, аккумуляторный фонарик, банку с водой, сухари, консервы. Даже маленький транзисторный приёмник положила, новости слушать. Артём просыпался, выходил на кухню, видел, как она таскает вёдра с песком и молча помогал. Поднимал тяжести, которые ей уже не под силу, приносил доски, чтобы укрепить лаз. Он понимал, что сам себе делает схрон на случай проверок. Лаз был в самом центре главной комнаты, не спрячешь просто так. Поэтому они вместе вытащили из сарая старый тяжёлый ковёр, тот самый, дедовский, ещё Брежневской эпохи, пыльный, с выцветшим красным узором. Выбили его вдвоём на улице, кашляя от пыли, потом просушили на солнышке. Вернули в дом, расстелили ровно по центру комнаты, будто просто так, для деревенского интерьера. Под ковром теперь был аккуратный квадрат фанеры, который прикрывал крышку лаза. А под ними тёплая, сухая, почти уютная "нора". Мать Елены, Нина Сергеевна, жила на этой же улице, через десяток домов. Когда еще был жив отец, они построили себе новый дом. Хотя думали его оставить ей, дочери. Но так получилось, что нормальной семьи Елена Викторовна не создала, родители заслуженно остались жить в новом доме. А Елена с сыном, вернувшись с города, поселились в стареньком, родительском. Через пару дней после того тяжёлого разговора с мамой, перед армией, школьные друзья позвали Артёма на посиделки. Собралось человек восемь: водка в пластиковых стаканах, пиво из бутылок, музыка из старого магнитофона. Алина появилась неожиданно. В короткой кожаной куртке, обтягивающих джинсах, подчёркивающих длинные ноги и округлые бёдра. Глаза ярко подведены, губы накрашены тёмно-вишнёвым блеском. Она казалась Артёму невероятно взрослой, хотя и была на год младше. Волосы распущены, чуть растрёпаны, от неё веяло лёгким ароматом духов и сигарет, и это сочетание ударило ему в голову, как первый глоток спиртного. Он замер, глядя на неё. Она показалась ему необыкновенно прекрасной: тонкая талия, высокая грудь, которая вздымалась под тонким свитером. Мягкие губы, которые он столько раз представлял в темноте казармы. Воспоминания нахлынули мгновенно... Первое письмо пришло через месяц после призыва — обычный конверт, знакомый почерк, чуть наклонённый вправо. «Привет, Артём. Не знаю, почему пишу именно тебе. Взяла адрес у твоей мамы. Просто подумала — тебе, наверное, скучно там. Расскажи, как дела?» Он искусал всю руку, придумывая ответ. Не хотел показаться слишком сопливым или романтичным, но и оттолкнуть боялся. Написал коротко и сухо: «Нормально. Учебка, марши, всё как у всех». А она продолжала — по-девичьи подробно, с эмоциями: как сдала сессию, как поссорилась с подругой, как смотрела в кинотеатре фильм и вспоминала его. «Ты всегда был такой молчаливый, будто презирал всех. Такой неприступный и важный!» Он стал отвечать чаще. Рассказывал о казарме, о бессонных ночах от холода и мыслей, о том, как сослуживцы делятся сигаретами и историями. Ни намёков на любовь, ни признаний — только приятельское тепло, которое он чувствовал даже через бумагу. Иногда она присылала фотографии: вот она у реки летом в лёгком платье, облепившем тело от ветра, вот с мороженым, капля которого стекает по подбородку, вот в купальнике на пляже — простом, но таком откровенном. Он прятал снимки в вещмешке, перечитывал в темноте под одеялом, и каждый раз рука сама тянулась вниз. Сколько раз он кончал, глядя на эти фотографии, стыдно было признаться даже себе. ... А тогда, первый раз, увидев её в дверях, он оцепенел. Алина улыбнулась приветливо, будто пришла именно к нему: — Артём, привет! Давно ты здесь?.. Почему не зашёл? Он потупил глаза — не знал, кто она ему и решил не надоедать. Просто знакомая из параллелей... Но весь вечер она держалась рядом: курила на подоконнике, касалась его плечом, подавала стакан, наклонялась ближе, чтобы перекричать музыку. Парни подшучивали: «О, Алинка уже метит территорию!» Она отмахивалась, но глаз от него не отводила. Он ходил на привязи, чувствуя себя одновременно счастливым и потерянным. Потом она взяла его за руку и увела в маленькую комнату, бывшую детскую, с обоями в цветочек и узкой кроватью. Попросила подпереть дверь стулом и выключить свет. Артём всё сделал и замер в столбняке, сердце колотилось, как после марш-броска: «Что ей нужно? Почему я? Неужели сейчас будет ЭТО?!» Её руки обвили его шею — тёплые, уверенные. Он робко приобнял за талию, пальцы дрожали. Упругое гибкое тело под ладонями казалось невероятно желанным. Поцелуи начались робкие, пристрелочные — губы едва касались, потом рты раскрылись шире, языки сплелись, вкус её губ — сладкий, с лёгкой горечью сигарет и пива — разлился по телу возбуждающей волной. Неистовая радость накрыла с головой: вот оно! С той самой, чьи фото он сжимал в руках, о ком мечтал и фантазировал ночами в казарме!.. Руки скользнули под свитер, кожа горела, гладкая, как шёлк. Соски затвердели под пальцами, когда он робко, почти не веря, коснулся их. Нетерпение стало бешеным: тело напряглось до боли, член пульсировал в штанах, требуя немедленного освобождения. Одежду снимали торопливо, путаясь в рукавах и молниях. Куртка упала, свитер задрался, обнажив полные, тяжёлые груди с розовыми сосками, которые он жадно впитывал взглядом, не в силах отвести глаз. Джинсы спустились, открыв кружевные трусики — уже мокрые, пропитанные её возбуждением, с тёмным пятном в центре. Повалились на кровать. Он сорвал трусики, пальцы нырнули в горячую, влажную щель — она была такой тесной, такой готовой, что у него перехватило дыхание от восторга. Алина выгнулась, застонала тихо, прижимаясь бёдрами к его руке. Он навалился, целуя хаотично — шею, плечи, грудь, — хватая это новое, раскрывшееся перед ним богатство. Вошёл быстро, почти резко — она охнула: «Ой, больно!», но не оттолкнула, только вцепилась в его спину ногтями, и это только разожгло его нетерпение. Двигались лихорадочно, коротко, сдавленно: толчки в её тесноту были как удары тока — каждый вгонял глубже, каждый вызывал стон, «тише… тише…». Он чувствовал, как её стенки сжимают его, как она течёт обильно, обволакивая, и это сводило с ума — восторг мешался с робостью: а вдруг ей не нравится? А вдруг он слишком груб, слишком быстрый? Но тело не слушалось, неслось вперёд, и кончилось слишком скоро — он выдохнул, уткнувшись в её шею, изливаясь толчками внутрь раскалённого влагалища, она задрожала под ним, сжимая бёдра, и он подумал: так вот как выглядит этот рай! Потом лежали молча. Она закурила, гладила его волосы. Он обнимал её, не веря своему счастью, целовал плечо, вдыхая её запах — пота, духов, секса, — и мучился: что сказать? Как выразить этот взрыв восторга, эту нежность? Слов не нашлось. Алина, наверное, ждала чего-то — слов, обещаний? — но не дождалась, и в воздухе повисло неловкое молчание. Он хотел начать всё заново, сказать, как она ему дорога, как он от неё без ума, но она вдруг отстранилась, сделавшись совсем чужой. Собралась быстро, попросила не провожать. Поцеловала в щёку, шепнув: «Увидимся». И только когда она ушла, он заметил на себе следы крови — для девушки, как и для него это был первый секс! Он взвыл. «Ох, кретин! Ты даже не поблагодарил её! Не сказал ни слова, как она тебе дорога, как ты от неё без ума и страдаешь!» — корил себя Артём на чём свет стоит. Но момент был упущен. Он сидел в темноте, чувствуя себя одновременно счастливым и опустошённым, и понимал: он всё испортил. Весь отпуск мать наседала делом: очистила погреб от старых банок, проветрила, посыпала песком, притащила матрас, лампу, воду, сухари, приёмник. Артём молча помогал — понимал, что роет себе схрон. Лаз спрятали старым ковром в центре комнаты. Он косился на этот вход в другую жизнь и никак не мог выбрать: долг, или щемящая жалость к себе и матери. Каждый день она спрашивала одним взглядом: "Останешься?". Он не отвечал. Плечи опускались под тяжестью выбора. Ехать: там сослуживцы — хорошие парни, с которыми делил всё. Бросить их — предательство, трусость. Но оставить мать одну в этом доме — тоже было выше его сил, тем более когда сейчас, убитая предчувствиями она металась, как раненая птица, растрепанная и взволнованная. Жизнь в подполе — унижение. Там, в Чечне — миг боя, пуля, разрыв, пустота. О чём он будет жалеть, истекая кровью в руинах? О своей короткой жизни, в которой случился только один трах? О матери? О долге? Глова пухла - он никогда не стоял перед таким сложным выбором. В последний день он по-армейски собрал вещи. Мать принесла еду на дорогу и свёрток с гражданской одеждой, Особенно настаивала на старой синей куртке. — Скрути, засунь, наденешь, если надумаешь… военное снимешь, чтобы патруль не остановил. Вот кроссовки, сапоги тоже сними. — Ну, мам! — Бери, дурень! - сунула она в до предела набитый вещмешок. Они присели на дорожку молча. Потом он встал, крепко обнял её, поцеловал в макушку, в щёку. Она обняла и долго не отпускала. Артём чувствовал ее горячее тело, на своём. — Я напишу, мам. Она с трудом расцепила объятья, сникла, не в силах говорить. Он повернулся и шагнул через порог. Она кинулась за ним, а потом стояла на пороге, пока фигура в форме не скрылась в тумане. Вернувшись в дом, Елена Викторовна упала на кровать и зарыдала — горько, надрывно, как никогда. Наплакавшись, хотела поужинать, но ничего не лезло. Села за стол, включила телевизор, не вглядываясь в экран. Внутри пустота и щемящая боль потери: «Растила… оберегала... и отобрали». Осенью темнело рано. Телевизор бубнил. Может и задремала... Вдруг скрип калитки. Шаги в сенях. Она поднялась, ноги подкашивались. Дверь распахнулась. На пороге стоял он — мокрый, запыхавшийся, понурый, в старой балоневой куртке и кроссовках. Мать вскрикнула и бросилась к нему, вцепившись в шею, прижимаясь всем телом. Слёзы хлынули снова — горячие, неудержимые: — Спасибо, спасибо сынок! Милый, любимый! Ты не пожалеешь! Неизвестно, что было хуже: вернуться в часть и почти наверняка сгинуть в мясорубке, или в девятнадцать лет оказаться заживо похороненным в четырёх стенах, без дневного света, без работы, без друзей, без любви... Даже Алина — та, что отвечала на его письма тепло, хоть и не клялась ждать, теперь была недостижима: ни позвонить, ни написать, не выдав себя. Сколько прятаться? Когда кончится война? Будет ли амнистия? Шаг сделан и сразу же раздавлен грузом последствий... Он оказался в вакууме. Дни слились в серый ком. Просыпался от каждого стука, лежал в темноте, не зажигая свет. Днём, если приходили гости, спускался в погреб и слушал, как мать ходит наверху, разговаривает с соседками. Она спускалась иногда: приносила еду, меняла бельё, таскала книги из библиотеки. Разговаривали мало. Он винил себя, она — себя, но оба молчали. С первого дня он ненавидел себя. За то, что не уехал. За то, что бросил парней, с которыми делил всё. За предательство тех, кто уже лежал в земле, и тех, кто ещё дышал. Никакая радость от спасённой жизни, не вернула ему достоинство. Он чувствовал себя трусом, отбросом! По ночам лежал на матрасе, уставившись в потолок, и мысленно перебирал: а если бы поехал? Погиб? Остался без рук, без ног? Всё казалось лучше этой живой могилы. Через месяц он начал ненавидеть и мать. Она чувствовала вину до дрожи в руках, до бессонных ночей. Сама заставила, шантажировала жизнью, умоляла на коленях. "Да, виновата. Но ни о чём не жалела. Чужие сыновья гибли тысячами. А её кровиночка был здесь: живой, здоровый, хоть и бледный, как погребной гриб, с потухшими глазами". Она старалась: готовила любимые котлеты, стирала одежду, которую он надевал только ночью, иногда выходя во двор. Приносила кассеты на магнитофон, с рынка. Иногда садилась рядом, держала за руку. Он не отнимал ладонь, но и не отвечал на пожатие. Однажды ночью, под ливнем, Артём не выдержал... Обхватив колени, сказал в темноту: — Мама… я тебя ненавижу. За то, что заставила меня сбежать. Елена Викторовна замерла и прошептала: — Ненавидь, сынок. Сколько влезет. Только живи. Пожалуйста... Артём не знал, сколько ещё выдержит. Но каждый раз, когда думал сдаться военкомату, сесть или исчезнуть, вспоминал материнское лицо в день возвращения. И ничего не предпринимал. Потому что знал: он уйдёт — убьёт её. Останется — убивает себя. Ещё было одно обстоятельство. То, в чём он не мог себе признаться даже мысленно... даже в самые тёмные часы, когда лежал соседней комнате, уставившись в потолок, и слышал, как за стеной мать тихо вздыхает во сне... То, что жгло его изнутри сильнее, чем ненависть к себе или к ней. Влечение!.. Попробовав единственный раз настоящий секс, теперь он мечтал повторить это снова. Это не шло ни в какое сравнение с "юношескими" занятиями. Живое, женское тело - вот о чем он бредил всеми днями и ночами! В армии этого почти не было, или было, но приглушённое, задавленное. Днём — марш-броски, отжимания до дрожи в руках, караульные смены, когда стоишь на ветру и думаешь только о том, как бы не заснуть стоя. К вечеру ноги еле доносили до койки, тело ныло, мозг отключался мгновенно. Желание приходило редко, вспышками, и уходило само, под холодный душ, под тяжёлый сон. А здесь, в родном доме, на полном обеспечении, когда единственные занятия: есть, спать да ждать, когда стемнеет, чтобы выйти во двор хотя бы на пять минут под звёздами, молодое тело взбунтовалось. Гормоны кипели круглые сутки! Утром просыпался уже с этим тяжёлым, пульсирующим напряжением. Днём оно не отпускало — сидел, обхватив колени, и пытался думать о чём угодно: о войне, о матери, о будущем, которого не было. Но тело помнило своё. Ночью, когда мать засыпала, он сбрасывал напряжение руками: быстро, механически, в темноте, кусая губы, чтобы не издать ни звука. Но это было не то. Совсем не то... Ему хотелось пахнущего, тёплого тела. Ответного дрожания девичьих губ, под его губами... Мягкости женского естества, которое раскрывается навстречу, сдавленных криков, которые не от боли, а от переполняющего наслаждения... Благодарного обожания в ответном взгляде, когда она смотрит на тебя, снизу вверх... глаза блестят, и в них нет ни осуждения, ни жалости, только «ещё»! Ему хотелось живую женщину. Настоящую. С запахом волос, с теплом кожи, с дыханием у самого уха. С руками, которые обнимают тебя не по-матерински, а жадно, собственнически. Алина приходила в его воспоминания, чаще всего. Он представлял её здесь, как она тихо смеётся когда он раздевает её снова, запрокидывает голову и шепчет: «Тише… мама услышит…». От этих видений, становилось только хуже. Он обильно кончал, сворачивался калачиком, зажимал руками голову от жалости к себе и своему положению. И каждый день эта жажда становилась острее, злее, невыносимее. Ему казалось, что мать замечает в каком он состоянии. Наверняка попались ей на глаза измазанные платки, неистовая эрекция по утрам... Она отводила взгляд, тушевалась. Иногда садилась рядом, гладила по волосам, говорила что-то успокаивающее — «всё наладится, сынок, потерпи ещё чуть-чуть»... а он только кивал, стискивая зубы. Потому что в эти минуты её близость, запах мыла, тепло руки... казалась одновременно спасением и пыткой. Она была единственным живым человеком в его мире. Женщиной! И именно поэтому он ненавидел себя ещё сильнее. Артём целыми днями просиживал в полумраке комнаты — свет включать боялся, шторы были плотно задернуты. Днём он почти не вставал с дивана и слушал, как за стеной, жизнь идёт своим чередом: машины, голоса соседей, детский смех из двора. Всё это казалось ему далёким, чужим, как кино за стеклом экрана. Однажды утром, провожая мать на работу в школу, он вдруг остановил её в коридоре. Голос его был тихим, почти виноватым: — Мам… купи мне, пожалуйста, каких-нибудь журналов. Елена Викторовна обернулась, поправляя сумку на плече. — Каких? Артём покраснел до ушей, уставился в пол. — Ну… этих… на базаре… с женщинами голыми. Она замерла. Глаза расширились. — Ой… — выдохнула она, прижав ладонь ко рту. — Да как же я такое куплю?! Он пожал плечами, не поднимая глаз. — Не знаю… Попробуй, как нибудь, а? Елена кивнула машинально. — Ладно… Попробую. Она вышла, а мысль, простая и внезапная, как удар, пронзила её насквозь: «Он же мужчина. Ему хочется того же, что и всем другим мужикам». Она всю жизнь видела в нём мальчика: худого, тихого, нуждающегося в её защите. А он вырос. У него есть тело, желания, потребности. Она совсем забыла об этом, вытеснила, считая его всё тем же ребёнком. От осознания стало жарко и стыдно одновременно. Весь день в школе она думала только об этом, урок вела на автомате, объясняла рассеянно. Мысль жгла: «Он там один, взаперти, без девушки, без ничего… А я даже не подумала». После уроков она пошла на базар. Нашла нужный киоск, не крашенный, с замызганным стеклом. Продавец, пожилой мужчина с жёлтыми от табака пальцами, ухмыльнулся понимающе. — Два получше, пожалуйста, — прошептала она, оглядываясь по сторонам, чтобы не встретить знакомых или учеников. Он сунул ей два толстых глянцевых журнала, яркие обложки с обнажёнными женщинами в вызывающих позах. Елена Викторовна быстро затолкала их в пакет, расплатилась дрожащими руками и почти бегом ушла, чувствуя, как горят щёки. Дома она протянула пакет сыну. — Вот… держи. Артём схватил, вспыхнул до корней волос, стал цвета спелого помидора. Не глядя ей в глаза, пробормотал: — Спасибо… И быстро унёс добычу к себе в комнату. Елена постояла в коридоре, потом, неожиданно для себя, сказала вполголоса: — Может… тебе помочь? Артём замер за дверью. Потом проворчал, не открывая: — Да нет… я тут как-нибудь сам, теперь. Журналов хватило на пару недель. Сексапильные красотки на глянцевых страницах были так далеки, как неживые, наигранные улыбки. Только идеальные изгибы голых тел, притягивали как магнит. Они возбуждали очень сильно, но оставляли после себя пустоту, почти болезненную. Артём закрывал журнал, лежал в темноте и чувствовал, как внутри растёт навязчивая, жгучая потребность: женщина. Настоящая. Живая. Молодая. Тёплая. Та, которую можно обнять, вдохнуть её запах, услышать, как она дышит чаще, от его прикосновений. Ах, как бы он её любил! Как бы целовал, как бы ласкал, как бы растворялся в ней до конца, забывая обо всём — о погребе, о войне, о вине своей. Теперь даже мать казалась ему желанной! Сначала эта мысль приходила украдкой, как стыдный укол, и он гнал её прочь. Но она возвращалась, всё настойчивее, всё ярче. «Она же тоже живая, — шептала мысль. — Столько лет одна. Без мужчины. Без тепла. Без того, что нужно каждому». И эта простая правда выжигала в нём дыры. Он вспоминал её тело, мягкие изгибы под ночной рубашкой, когда она наклонялась над столом. Тяжёлую грудь, которая колыхалась при ходьбе, запах её волос, когда она спускалась к нему в погреб. Раньше это была просто «мама». Теперь — женщина. Запретная, родная, единственная в его мире... В журналах красотки вдруг начинали приобретать знакомые черты: вот эта — с такой же линией шеи, как у неё, вот та, с похожей улыбкой, вот эта грудь — почти как её, когда она моется за занавеской. И это не отталкивало. Наоборот, делало картинку живее, ближе, желаннее. Он закрывал глаза и представлял уже не безликую модель, а свою маму: её дыхание, её стоны, её руки на его спине. И тело отвечало мгновенно, жадно, болезненно. Елена Викторовна не могла не замечать перемен в сыне. Она чувствовала изменения всем телом. Его взгляд стал другим — тяжёлым, пристальным, голодным. Раньше он смотрел на неё как на мать: виновато, устало, с благодарностью. Теперь — как на женщину. Он задерживал глаза на её груди, когда она наклонялась над столом, на бёдрах, когда она проходила мимо, на шее, когда она поправляла волосы. Он следил за каждым её движением: как она идёт, как садится, как поправляет платье. И от этого взгляда, у неё перехватывало дыхание. Сначала она пыталась отмахнуться: «Это от одиночества. От журналов. От гормонов». Но тело не обманешь. Когда он смотрел так долго, не отрываясь, у неё начинало гореть внизу живота. Соски твердели под тканью, дыхание учащалось. Она ловила себя на том, что невольно выпрямляется, когда входит в его комнату, поправляет волосы, чуть покачивает бёдрами. И ненавидела себя за это. «Я же мать, — шептала она себе. — Это неправильно». Но другая часть, та, что давно забыла мужские руки, шептала в ответ: «А он смотрит. Он хочет. И ты хочешь, чтобы он хотел»... Однажды вечером, когда она спускалась в погреб с ужином, он не отвёл глаз. Просто смотрел долго, жадно, не скрываясь. Она замерла на лестнице, чувствуя, как жар поднимается по шее к щекам. — Артём…— тихо сказала она, не зная, что дальше. Он молчал. Только сглотнул. И в этом молчании было всё: желание, стыд, мольба, любовь. Она поставила тарелку на полку и ушла, не сказав больше ни слова. Наверху прислонилась к стене, закрыла глаза и выдохнула дрожащее: — Господи… что же теперь делать? Ответа не было. Только тишина дома и взгляд сына, который всё ещё горел у неё на коже. Однажды ночью, когда дождь барабанил по крыше особенно громко, Артем не выдержал. Поднялся по лесенке, тихо приоткрыл лаз, выглянул. Мать спала на диване в комнате. Свет не горел, только луна через занавеску бросала серебристую полосу на пол. Он смотрел на неё долго. Сейчас она казалась ему молодой, незнакомой женщиной. И ему подумалось: "а она хочет мужчину? Ведь ей всего сорок с небольшим, после пропажи отца, он ни разу не видели её с кем-то. Как она справляется с этой нестерпимой жаждой любви?" Он постоял в раздумье, потом молча двинулся к дивану. Присел на край. Диван жалобно скрипнул. Самое тяжёлое, было протянуть руку. Но тело уже воспламенилось. Фантазия рисовала жаркие картины. Он набрался храбрости и просунул руку под одеяло, положив ладонь на материнское бедро. Елена Викторовна вздрогнула. Она уже не спала. Артём подождал немного, сжимая неожиданно гладкую, манящую женскую кожу. — Не надо, это не правильно... это плохо, — в темноте раздался кроткий голос матери. — Я знаю, мама, — пересохшим голосом ответил Артём. Его рука двинулась вверх. Зацепила край ночной рубашки, нырнула под неё, потянулась выше. Бедро расширялось под пальцами, и он с замиранием сердца представлял, где она окажется уже скоро. — Нет! — резко вскрикнула Елена Викторовна, подскочила на подушках, защищаясь от него одеялом. — Нам... Нельзя! Нет! — Ты не оставила мне выбора! — довольно сдержанно и спокойно стал говорить Артём. — Я твой пленник! Ни выйти, ни пригласить кого-то сюда не могу! Что ты прикажешь мне делать? Может, приведёшь мне кого-то? — Нет, не приведу! Она сдаст тебя сразу! — глаза матери сверкали в полумраке. — А то и заразит чем-то! — Ну и вот! — Артём снова протянул руку. — Неужели так невмоготу? — снова отбросив его ладонь, переспросила женщина. — А тебе самой разве не хочется? — вместо ответа спросил парень. — Мне?.. Сейчас не о мне разговор! — Тебе меня не понять! Тебе это не нужно! Мне сны снятся эротические... и в них только три женщины: ты, Алина и даже бабушка... Иногда мне кажется, я мог бы и на неё залезть, только бы дала...— окончательно сник Артём. Минутное помутнение прошло, и теперь чувство собственной никчёмности, нахлынуло с новой силой. — Я, мама, наверно, сам на себя руки наложу… Это не жизнь, это каторга! — заплакал он. — Ну что ты, не вздумай! — испугалась женщина, кидаясь к сыну на шею. — Ты же мой, ты не можешь меня бросить! Мы что-нибудь придумаем! Я придумаю! — горячо зачастила она, целуя ненаглядную макушку сына. — Ну хочешь, я тебе… тебе рукой сделаю… Сама! — выдохнула она и тут же испугалась вырвавшегося предложения. Она была в отчаянии. — Рукой?.. Ты? — слёзы Артёма моментально высохли. Он минуту думал, глядя в темноту. — А давай. Теперь пришла пора матери застыть, как от удара. Она всё ещё обнимала его, прижимаясь всем телом, но рука её уже сама собой потянулась вниз — медленно, дрожа, словно боялась обжечься. Ладонь легла на широкие, армейские трусы сына, и сквозь тонкую ткань, она сразу ощутила его рвущийся наружу, горячий, твёрдый стояк. Большой. Молодецкий. Живой. В животе у неё сладко и болезненно сжалось, будто внутри развернулся тугой узел желания, который столько лет был завязан мёртвым узлом. Даже через ткань, она различала всё: набухшую головку, её округлый, горячий край и крупный, бугристый ствол, пульсирующий под пальцами. Она сжала чуть сильнее и невольно выдохнула, уже другим голосом, низким, хриплым, сдавленным от внезапного жара. — Мама… — начал было Артём, но она резко цыкнула: — Молчи! Рука женщины скользнула за резинку трусов. Горячие пальцы коснулись обнажённой, налитой головки — гладкой, влажной от предэякулята, бархатистой. Прошли ниже, обхватили ствол целиком: толстый, горячий, упругий. Потом мягко, почти ласково, обняли тяжёлую мошонку, перекатывая яички в ладони, словно взвешивая их, словно вспоминая забытое ощущение полноты. Мать уткнулась лицом в шею сына, вдыхая его запах: смесь мыла, пота, юной мужской силы. Дыхание её стало тяжёлым, прерывистым, горячим. Рука выпростала член наружу, сдвинув край трусов вниз. Теперь он лежал в её ладони свободно. Большой, прямой, напряжённый до предела, с выступающими венами, которые она чувствовала под пальцами, как живые нити. Она стала двигать кожу медленно, нежно. Вверх-вниз, ощущая, как головка то прячется, то выныривает, блестящая, багровая, готовая лопнуть от напряжения. Артём невольно дёрнулся бёдрами и она испуганно выпустила его, словно обожглась. — Погоди… сниму всё, а то мешает, — хрипло пробормотал он. Парень поднялся, одним движением стянул трусы, отбросил их в сторону. Ничуть не смущаясь, лёг на спину на старый диван, свесив ноги на пол. Член его теперь стоял вертикально, тяжёлый, покачивающийся от каждого вздоха, с каплей на кончике, которая медленно стекала по стволу. — Вот так. Давай… Повинуясь его тихой, но твёрдой команде, растрёпанная женщина снова взялась за него. Теперь он был полностью обнажён: свободен, топорщился вверх, большой, прямой, красивый в своей грубой, первобытной силе. Елена Викторовна невольно засмотрелась, на эту внушительную колонну плоти: такую близкую, такую забытую, такую родную и чужую одновременно. Сейчас в ней не осталось ни стыда, ни размышлений, только древний, половой режим, включённый когда-то давно... в те ночи, когда муж ещё был жив, когда каждый знал свою роль, своё место, своё назначение. Она обхватила его обеими руками, одной у основания, другой выше, и начала двигать: то сжимая сильнее, то почти отпуская, чувствуя, как под её пальцами ствол наливается ещё больше, становится твёрже, жарче. Головка блестела, раскрываясь, как цветок под дождём. Дыхание женщины сбилось, стало рваным, горячим. Она наклонилась ближе — так близко, что её губы почти касались кожи живота сына и выдохнула прямо на него, обдав горячим воздухом. Артём застонал тихо, сдавленно, вцепившись пальцами в старую обивку дивана. Бёдра его задрожали. Мать не останавливалась. Рука двигалась быстрее, увереннее, ритмичнее. Другая ладонь скользнула ниже, снова обхватила мошонку — тёплую, тяжёлую, полную. Слегка сжала, покатала, почувствовала, как внутри всё напряглось, собралось, готово вот-вот взорваться. — Мама… — выдохнул Артём, почти неслышно, голос его сорвался на хрип. Она не ответила. Только наклонилась ещё ниже, губы её коснулись горячей, чуть влажной от пота кожи живота, потом медленно скользнули ниже, оставляя влажный, дрожащий след. Дыхание её обжигало набухшую головку — горячее, прерывистое, почти осязаемое. Она не взяла в рот — пока нет, — но губы почти касались, почти ласкали, почти обещали. Ноздри широко раздувались, вдыхая терпкий мужской мускус: густой, животный, такой знакомый и такой запретный. От этого запаха у неё закружилась голова, тело обмякло, а внутри разлилось тяжёлое, сладкое томление, от которого соски затвердели под тонкой ночной рубашкой, а между бёдер стало горячо и влажно. Рука продолжала двигаться — быстрее, крепче, жаднее. Пальцы плотно обхватывали ствол, скользили по венам, то сжимая у основания, то почти отпуская, чтобы потом снова пройтись вверх, собирая капли предсемени на подушечке большого пальца. Она чувствовала, как внутри неё самой всё сжимается, течёт, пульсирует в такт его тихим, сдавленным стонам. Давно забытое тепло разлилось между бёдер, пропитало тонкую ткань трусиков, сделало их липкими. Бёдра невольно сжались, пытаясь хоть немного унять эту пульсирующую пустоту. Она задрожала всем телом — от внезапного, острого, почти болезненного возбуждения, которое накатывало волнами, заставляя дыхание сбиваться. Они оба дышали тяжело, прерывисто, в унисон как будто один организм, разорванный надвое и теперь снова слившийся в этом упоительно-душном порыве. Она двигала рукой всё быстрее, подгоняя неизбежное, чувствуя, как ствол в её ладони становится ещё твёрже, ещё горячее, как он начинает мелко подрагивать. И вдруг сын напрягся всем телом, выгнулся дугой, вцепился пальцами в обивку дивана, сжал зубы и из горла вырвался низкий, протяжный стон. Горячая, густая струя ударила на её руку, потом ещё одна, и ещё — липкая, тёплая, обильная. Она не остановилась сразу: ещё несколько раз провела ладонью вверх-вниз, размазывая сперму по стволу, по головке, по своим пальцам, пребывая в какой-то оглушающей, возбуждённой прострации. Потом медленно отвела руку и поднесла её к лицу. Вдохнула. Сладковатый, чуть горьковатый, давно забытый запах ударил в ноздри и мгновенно вернул её на двадцать лет назад: летние ночи, скрип кровати, тяжёлое дыхание мужа, его руки на её бёдрах, его вкус на губах. Она не удержалась, кончиком языка коснулась собственной ладони, слизнула каплю. Вкус был знакомым, родным и чужим одновременно — солоноватый, терпкий, мужской. От него внизу живота снова болезненно сжалось, а соски заныли так сильно, что она невольно прижала свободную руку к груди. Елена Викторовна тяжело вздохнула, не зная, куда теперь девать глаза, что сказать, как смотреть на сына после всего этого?.. Стыд накатывал волнами, но под ним горел огонь... ярче, чем когда-либо за последние годы. Но её спас Артём. Он вдруг кинулся к ней, обнял крепко, прижался всем телом, уткнулся лицом в её шею и горячо, сбивчиво зашептал: — Спасибо, мамочка… спасибо… это было… так странно… так стыдно… и так нужно… Я не знаю, как бы я без этого… Прости… но спасибо… Он целовал её щёку, висок, плечо благодарно, почти благоговейно, как будто она подарила ему не запретное удовольствие, а спасение. — Ну всё, Артём, хватит, — смущённо отговаривалась женщина, пытаясь отстраниться, но руки её сами собой гладили его по спине. — Давай спать. Мне завтра рано на работу… Она поцеловала в макушку на прощание — быстро, почти по-матерински, но губы задержались чуть дольше обычного. Лежала потом в темноте на своей кровати, уставившись в потолок, и никак не могла успокоиться. Она чувствовала возбуждение, женское, обильное, мучительное... Перед глазами стоял его возбуждённый, пульсирующий член: большой, молодой, живой. Во рту ещё хранился этот влекущий, дурманящий привкус. На руке липкий след, который она не спешила стереть. А внизу живота циклично пульсировала кровь, не находя выхода, накатывая волнами, заставляя бёдра невольно сжиматься и разжиматься. Она перевернулась на бок, подтянула колени к груди, пытаясь унять это томление, но оно только росло — острое, жгучее, требовательное. Переломный шаг был сделан, и теперь они не могли смотреть друг на друга как прежде. Хрупкий моральный барьер, который держался годами на одной только привычке и страхе, рухнул в ту ночь и осколки его впились в обоих так глубоко, что вытащить их уже не представлялось возможным. Артём теперь видел в матери женщину. Не просто «маму», не заботливую фигуру в старом халате, а именно женщину: мягкую линию шеи, когда она наклонялась над столом, тяжёлую грудь, которая колыхалась под тонкой ночной рубашкой, округлости бёдер, когда она проходила мимо. Его взгляд изменился, стал медленным, изучающим, голодным. Он ловил себя на том, что смотрит на неё слишком долго: на то, как она поправляет волосы, как потягивается утром, как невзначай касается себя рукой по бедру, когда думает, что он не видит. Елена чувствовала этот взгляд на себе постоянно. Он скользил по её груди, задерживался на сосках, которые предательски проступали сквозь ткань, спускался ниже — на живот, на ляжки, на то место, где ночная рубашка слегка прилипала к телу от пота. Помимо гнетущего неудобства и жгучего стыда, этот взгляд вызывал у неё приступы собственного возбуждения — внезапные, острые, почти болезненные. Она ловила себя на том, что невольно сжимает бёдра, когда он смотрит, что дыхание учащается, а между ног становится горячо и влажно. Она ненавидела себя за это и в то же время с тайной, почти ужасной надеждой ждала следующего вечера... И Артём пришёл. Прилёг рядом с ней на узкую кровать, обнял сзади, прижался всем телом. Зарыл лицо в её шею. Туда, где кожа была самой нежной, самой тёплой, пахла мылом и чем-то неуловимо-женским. Его дыхание обожгло кожу. — Ты снова… за этим… — спросила она дрожащим голосом, почти шёпотом. — Угу, — кротко подтвердил он, и рука его уже легла на её талию, медленно поползла вниз, к бедру. — Ох… сыночек, нам же нельзя… — слабо сопротивлялась она, но голос предательски срывался, а тело уже отвечало: выгибалось навстречу, прижималось ближе. Но руки её, сами собой тянулись назад. Пальцы зацепили резинку его трусов, стянули их вниз одним движением. Член вырвался наружу — горячий, твёрдый, уже мокрый на кончике. Она обхватила его ладонью, жадно, почти отчаянно, стала мять, гладить, перекатывать кожу, чувствуя, как он пульсирует в её руке, как наливается ещё сильнее под пальцами. Артём застонал тихо, прямо в её шею, зубами прикусил мочку уха, не больно, но достаточно, чтобы по её спине пробежала дрожь. Он развернул её к себе лицом, задрал рубашку до груди. Губы нашли торчащий сосок, сначала осторожно, языком, потом жаднее, втягивая его в рот, посасывая, покусывая. Елена выгнулась, запрокинула голову, вцепилась пальцами в его волосы. — Артём… сынок… нельзя… — шептала она, но слова уже теряли смысл, растворялись в тяжёлом дыхании. Его рука скользнула между её бёдер, раздвинула их. Пальцы нашли её, уже мокрую, горячую, раскрывшуюся. Он провёл по складкам, надавил на клитор... мама дёрнулась, всхлипнула, прижалась сильнее. Он ввёл один палец внутрь: медленно, чувствуя, как её стенки обхватывают его, как она течёт по его руке. Потом второй. Двигал ними неглубоко, но ритмично, большим пальцем массируя набухший бугорок. Елена уже не сопротивлялась. Она сама потянула его за плечи, устраивая между своих ног. Он встал на колени, член его качнулся перед ней — багровый, блестящий. Она обхватила его обеими руками, наклонилась и наконец взяла в рот. Сначала только головку, обвела языком, слизнула солоноватую каплю, потом глубже, чувствуя, как он упирается в нёбо, как пульсирует на языке. Артём застонал громче, вцепился в её волосы, но не давил, просто держался, дрожа. Она сосала жадно, с мокрым чмоканьем, то выпуская, то снова заглатывая, пока он не начал подрагивать бёдрами. В этом деле она была искусница. Тогда она отстранилась, легла на спину, раздвинула ноги шире. — Иди ко мне… возьми уже...— выдохнула она, голос хриплый, чужой. Он лёг сверху, мать своей рукой направила член к щелке. Артём вошёл одним толчком глубоко, до упора. Она охнула, вцепилась ногтями в его спину, обхватила его бёдрами. Он замер на секунду, просто чувствуя её внутри, её тепло, её тесноту, а потом начал двигаться. Сначала медленно, выходя почти полностью и входя снова, наслаждаясь каждым сантиметром. Потом быстрее, резче. Диван скрипел под ними, голова Елены билась о подушку, губы её шептали бессвязное: «Да… да… ещё… сынок…» Он наклонился, поймал её губы в поцелуе: жёстком, влажном, с привкусом его собственной влаги. Она отвечала яростно, кусала его нижнюю губу, царапала спину. Их тела двигались в одном ритме — потные, горячие, сплетённые. Она чувствовала, как он упирается в самую глубину, как головка трётся о чувствительную шейку матки, как всё внутри сжимается, готовится взорваться. Когда она кончала, с резким, протяжным стоном, который почти перешёл на крик, её стенки запульсировали вокруг члена, сжимая так сильно, что он не выдержал. Выдернулся в последний момент, струи ударили ей на живот, на грудь, горячие, обильные. Она дрожала под ним, всё ещё сжимая его бёдра ногами, пока он не обмяк, не упал на неё, тяжело дыша. Они лежали так долго — мокрые, липкие, сплетённые. Ни один не говорил ни слова. Потом он поцеловал её в висок нежно, почти виновато. — Мам… — Тише, — прошептала она, прижимая его голову к своей груди. — Просто… лежи. В голове Елены всё смешалось в один густой, вязкий водоворот. Телесная радость — острая, жгучая, давно забытая — всё ещё пульсировала внизу живота, отдаваясь эхом в каждой клетке. Кожа горела там, где он касался, губы помнили вкус его кожи, а между бёдер всё ещё теплилась влажная тяжесть, напоминание о том, что только что случилось. Но под этой радостью, как чёрная вода под тонким льдом, поднималась вина — тяжёлая, удушающая, не отпускающая ни на секунду. Теперь сын был не просто оторван от жизни. Он был привязан к ней, не только страхом, не только необходимостью прятаться, но и телесно. Полностью. Без остатка. Как когда-то в чреве — целиком её, зависимый от её тепла, от её дыхания, от её тела. Только теперь эта зависимость стала другой: взрослой, греховной, необратимой. Она дала ему то, чего не должна была давать никому, тем более ему. И в то же время, отняла у него последнюю возможность уйти, забыть, начать заново где-то далеко от этого дома. Елена лежала на спине, глядя в тёмный потолок. Рядом, уткнувшись лицом в её плечо, тихо дышал Артём, уже уснувший, расслабленный, с рукой, всё ещё лежащей на её бедре, как будто боялся отпустить. Она не отодвигалась. Не могла. Только пальцы её сами собой гладили его волосы медленно, механически, как в детстве, когда он болел или плакал по ночам. «Что я наделала?»— подумала она без слёз, потому что слёз уже не осталось. Вина была не острой, как удар ножа. Она была медленной, всепроникающей, как сырость в стенах этого старого дома. Она знала: теперь каждый раз, когда он будет выбираться из погреба, когда будет ложиться рядом, когда будет смотреть на неё тем самым, голодным взглядом — это будет повторяться! Не потому что он захочет... А потому что оба уже, не смогут остановиться. Потому что он — её единственный мужчина в этом запертом мире. А она — его единственная женщина. Она повернула голову, коснулась губами его лба, осторожно, почти невесомо. «Прости меня, сынок», — прошептала она в темноту. С той поры они стали жить вместе, как муж и жена... без слов, без официальных обещаний, просто потому, что иначе уже не могли. На Елену обрушился такой поток любви и сладостной муки, что она задыхалась от переизбытка ощущений. Стыд куда-то ушёл, растворился в постоянном жаре их тел, в бесконечных объятиях, в том, как он смотрел на неё теперь: не как на мать, а как на женщину, которую желает до дрожи в пальцах. Она была любима, по-настоящему, жадно, без остатка и это наполняло её такой радостью, что порой летала, как на крыльях. Похорошела так заметно, что люди на улице оборачивались: лицом засияла, глаза стали ярче, губы набухли от постоянных поцелуев. Тело переживало вторую молодость, наливалось соками. Груди стали полнее, тяжелее, соски болезненно чувствительными, отзывались даже на лёгкое касание ткани. Бёдра округлились, походка сделалась мягче, женственнее. Она ловила своё отражение в зеркале и не узнавала себя... это была не та уставшая учительница, а женщина в расцвете, которую хотят, которую "берут", которую обожают. Однажды днём, когда Елена ещё не успела отдышаться после утреннего Артёма: всё случилось слишком быстро и слишком захватывающе... Он вошёл на кухню молча, глаза томные от желания. Не сказав ни слова, прижал её к столу спиной, задрал юбку до талии, рывком стянул трусики вниз. Она ахнула, но уже раздвигала ноги, подставляясь ему, потому что тело знало, чего хочет, раньше её разума. Артём закинул ноги себе на плечи, крепко ухватил за ягодицы. Пальцы впились в мягкую плоть, оставляя красные следы, и вошёл одним резким толчком, глубоко, до упора. Она закусила губу, чтобы не закричать, но стон всё равно вырвался — низкий, протяжный, полный наслаждения и лёгкой боли. Он двигался ритмично, почти яростно, каждый толчок вбивался в неё до самого конца. Головка упиралась в самую чувствительную точку внутри, заставляя её тело содрогаться. Пот стекал по её спине, между грудей, пропитывал блузку. Груди колыхались под задранной тканью, соски тёрлись о хлопок, набухли, стали твёрдыми, как камешки, и каждый раз, когда ткань цеплялась за них, по телу пробегала сладкая судорога. Она чувствовала, как внутри всё сжимается, как влага течёт по бёдрам, как её стенки обхватывают его ствол, пульсируя в такт его движениям. Близко. Уже близко. Она вцепилась в край стола, ногти впились в дерево, дыхание сбилось, превращаясь в короткие всхлипы. — Артём… — выдохнула она, почти неслышно. Он наклонился, поймал её губы в нетерпеливом, влажном поцелуе, продолжая вбиваться в неё всё быстрее, всё глубже. Её тело дрожало, готовое взорваться… Вдруг в дверь постучали. Всё ухнуло в пятки! Елена замерла, ноги задрожали, она аж присела от внезапного ужаса и неожиданности, стул под ней скрипнул. Артём тоже застыл. Член всё ещё внутри неё, глаза расширились, дыхание прервалось. — Кто там? — протянула она срывающимся, хриплым голосом, пытаясь звучать спокойно. — Тётя Лена, это Алина! Хотела узнать про Артёма! Сердце у Елены рухнуло куда-то вниз. Она резко оттолкнула сына. Он выскользнул из неё с влажным звуком и Артём, не теряя ни секунды, метнулся к центру комнаты. Ковёр уже был откинут, фанера поднята — он скользнул в лаз, как в нору, крышка захлопнулась, ковёр лёг на место ровно, будто ничего и не было. Запыхавшаяся, с горящими щеками и мокрыми бёдрами, Елена кое-как натянула трусы, поправила юбку, пригладила волосы и отперла дверь. — Проходи, милая… Что случилось? Алина стояла на пороге в той же короткой куртке, что и тогда на вечеринке, волосы собраны в хвост, глаза чуть припухшие, будто от недосыпа или слёз. — Тётя Лена, хотела спросить, как там Артём… Я ему пишу, а письма возвращают с припиской, что такой не значится. Может, вы знаете его новый адрес? Или хотя бы где он сейчас?.. Елена отвела взгляд, чувствуя, как внутри всё холодеет. Между ног всё ещё текло, трусики промокли, и ей казалось, что запах секса висит в воздухе, как дым. — Ох, сейчас с этой войной всё сложно… Их постоянно перебрасывают туда-сюда, — зачастила она, на ходу придумывая. — Часть то в одном месте, то в другом… Давай я попрошу его тебе написать с нового адреса, хорошо? — Хорошо… спасибо, — пролепетала девушка, глядя в пол. Елена прищурилась, не удержавшись: — Встречались что-ли с ним? Он мне ничего не говорил о тебе… Алина густо покраснела, щёки вспыхнули до ушей. — Ну… было… один раз… Но я тогда не была уверена… А пишу-пишу, но письма не проходят… — Ладно, милая, я ему постараюсь передать… — Елена уже еле сдерживалась, чтобы не захлопнуть дверь сразу. Ей было невыносимо стоять вот так, с сыном в подполе, с его спермой ещё внутри себя, и разговаривать с той, кто когда-то была его первой настоящей девушкой. Алина ещё помялась на пороге, словно хотела сказать что-то важное, но хозяйка явно томилась её обществом, поэтому тихо попрощалась и ушла, опустив голову. Елена накинула крючок на дверь, прислонилась спиной к косяку, выдохнула. Потом подошла к центру комнаты, откинула ковёр. — Вылезай… Артём вылез — бледный, как полотно, глаза ввалились, губы дрожали. — Это Алина приходила? Она мне пишет? Он схватил мать за руки, стал трясти: — Что она сказала? Говори! — Отпусти, сын… Да, она. Хотела тебя найти. Письма ее возвращают, адрес точный не знает… Артём отпустил её руки, отступил назад, как от удара. — Ах, мама… Это невозможно! Я тут погибаю твоими стараниями… — Да как же так, сынок?.. Я уже всю себя тебе отдала… — Да, мама, но ведь ты сама всё понимаешь! — он метался по комнате, не находя себе места, то хватался за голову, то сжимал кулаки. — Она приходила… Она ищет меня… А я здесь, в этой норе, с тобой… Елена почувствовала, как по сердцу резануло остро, до крови: «Ах вот как… Мать — это так, на безрыбье, а сам то хочет молоденькую…» Она отвернулась к окну, чтобы он не увидел, как дрогнули губы. Внутри всё сжалось, не от обиды даже, а от какой-то тяжёлой, горькой ясности. Елена знала: он прав. Она знала: это конец. Не конец любви — конец иллюзии, что он может быть счастлив с ней, в этой клетке. Артём остановился посреди комнаты, посмотрел на неё долго, тяжело. — Мам… Я не могу больше так. Не могу. Она только кивнула, не глядя на него. — Я знаю, сынок. Когда на следующий день Елена Викторовна вернулась с работы, дом встретил её непривычной тишиной. Ни скрипа пружин матраца в погребе, ни шороха шагов, ни даже привычного запаха его тела, который уже пропитал всё вокруг. Она позвала тихо: — Артём? Ответа не было. Только эхо её голоса в пустой комнате. Она кинулась к гардеробу, распахнула дверцы. Потайной отсек — старый деревянный ящик за зимними вещами, стоял открытым. Военной формы не было. Исчезла гимнастёрка, исчезли портянки, ремень, фуражка. На вешалке висело и её старое зимнее пальто. То самое, тёмно-синее, с меховым воротником, которое она берегла «на всякий случай». Сердце ускакало, куда-то вниз, в живот, и там осталось: тяжёлое, холодное, как камень. Всё. Всё было кончено. Она опустилась на пол, прямо у гардероба, прижалась лбом к холодной дверце. Слёз не было — только сухой, удушающий всхлип. Он ушёл. Сам! Без слов, без записки, без прощания. Ушёл туда, откуда она его так отчаянно удерживала. К людям. К жизни. К тому, что она отняла у него своими руками. Потом был суд. Она ездила на все заседания, из Саратова в Пензу, потом обратно, в трясущихся электричках, в душных автобусах. Сидела в зале на жёсткой скамье, понурая, поникшая, в платке, ловя каждый взгляд сына через решётку. Артём смотрел на неё уже не голодно, не жадно, а устало, почти отстранённо. Иногда кивал, едва заметно, иногда просто отводил глаза. Елена Викторовна сидела и молча гладила живот под пальто. Там, внутри, уже росло то, о чём она никому не говорила. Беременность... От него. Она не решилась оставить. Сделала аборт на раннем сроке, в какой-то полуподвальной клинике, где пахло хлоркой и страхом. Лежала потом дома одна, свернувшись на кровати, и думала: «Это правильно. Это нельзя оставлять». Но внутри всё пустело. Артёма осудили на четыре с половиной года колонии-поселения. Дезертирство в условиях военного времени — могли дать и больше, но судья, видимо, сжалился над матерью в зале. Все понимали, что он её единственный сын. Елена Викторовна ездила и в колонию дважды, с передачами, с пирожками, с тёплыми носками. Сидела напротив него, в комнате свиданий: говорила о погоде, о соседях, о том, как чинит крышу. Артём был ласков, добр, но когда она заговаривала о паре для него, отвечал: — Потом, мама, всё потом… Я вернусь только к тебе, больше никто мне не нужен. Я тебя буду любить вечно и не только как маму... Им разрешалось три ночи, в гостевом бараке. А потом, когда свидания заканчивались, она возвращалась домой и снова делала аборт. Второй. Тоже на раннем. Потому что он всё ещё был в ней — в мыслях, в теле, в воспоминаниях, которые не отпускали. Елена Викторовна даже съездила в Саратов к сексологу, но так и не решилась сказать правду... Доктор советовал, найти мужчину и иметь половую жизнь. После той поездки, случился один спонтанный эпизод близости с посторонним мужчиной... Ничего не зажглось, только тяжесть вины, будто предала память мужа. Последние пять лет, еще до Артёма, она даже не смотрела в сторону других, хотя умом понимала: для здоровья и душевного равновесия пора начинать жить, своей жизнью. В октябре она впервые не поехала на свидание, только посылку отправила. А потом пришло известие: Артёма могут отпустить по УДО уже к Новому году или Рождеству. Елена Викторовна, решила убежать от судьбы... Продавать всё здесь и уезжать как можно дальше. Откликнулись на ее запросы, сразу в Свердловской и Тюменской областях: — приглашали учителем. Страшно было: сын обещал найти её где угодно и жить вдали от всех, как настоящая пара, чтобы никто не заподозрил. Чтобы разорвать этот порочный круг, она уехала тайно, не сказав ни кому, а главное Артёму, точного места. Поселилась в квартире, которую выделила школа. После зимних каникул вышла на работу. С мамой общалась только по рабочему телефону из учительской — та думала, что связи почти нет. Вернулся сын, после Рождества. А в конце января звонила мама: "Артёма вызвали в военкомат". Кажется, старушка начинала что-то подозревать... А в начале февраля, пришлось срочно ехать, хоронить старшего брата. Встретились все родственники. Артём очень изменился, не прятался от людей, но взгляд был как у побитой собаки. Жил в новом доме, с бабушкой и почти не выходил от неё. Уговаривал остаться ночевать... предлагал гостиницу на пару часов, по дороге на вокзал. Елена отказалась, ночевала у мамы в комнате, под предлогом поддержать её после потери сына. Две ночи Артём засиживался допоздна, готов был спать на полу, лишь бы не отпускать. Елена всё поняла, но нашла силы уехать. В апреле, сын вышел на постоянную работу, экспедитором и грузчиком в райпо. Собирался восстановить водительские права и перейти в шофёры... там много общения, много женщин, жизнь вокруг. Теперь Артём звонил часто, рассказывал о себе, скучал, просил сказать, где она живёт, приехать в гости... Елена отговаривалась. У самой появились перемены: сначала молодой коллега-географ, всего 28 лет, моложе даже сына, очень симпатичный, но она не решилась — возрастная разница слишком велика. Потом появился взрослый мужчина на семнадцать лет старше, вдовец. Пока только, конфетно-букетный период, но хочет он совместного проживания. Живёт правда, вместе с дочерью сорока шести лет, которая четыре года назад переехала к нему «помогать». Их общение, показалось Елене Викторовне странно-близким... но она решила не лезть в чужие семейные дела. Выяснилось, что тот «дедушка» не подходил в серьёзные женихи. Зато судьба наконец улыбнулась: встретила военного, на два года младше неё, разведённого. Всё складывалось спокойно и неторопливо. ... Однако во время отпуска, когда Елена Викторовна приехала к маме, всё рухнуло снова. Она собиралась всего на три дня — просто проведать, обнять старую женщину, посидеть за столом с пирогами и чаем. Артём встретил её на пороге, уже не тот худой мальчишка, а крепкий мужчина с усталыми глазами и тяжёлым взглядом. Он не сказал ни слова, только шагнул вперёд и обнял её так крепко, что она охнула. Руки его дрожали. Она почувствовала знакомый запах — мыло, пот, его кожа и внутри всё перевернулось. «Нет, — подумала она отчаянно. — Только не сейчас. Только не здесь». Но тело уже знало своё предназначение... Вечером, когда мама уснула в своей комнате, он пришёл к ней в маленькую гостевую. Дверь скрипнула, луна бросала серебристую полосу на пол. Он не спрашивал разрешения, просто лёг рядом, прижался всем телом, уткнулся лицом в её шею. Она хотела оттолкнуть, сказать «нет», напомнить о своей новой жизни, о мужчине, который ждал её в другом городе... но руки сами обняли его за плечи. Губы нашли его губы в темноте. Поцелуй был жадным, голодным, как будто они не виделись годы... а так оно и было. Артём задрал её ночную рубашку, стянул трусики одним движением. Она не сопротивлялась, наоборот раздвинула ноги, чувствуя, как внутри всё течёт от одного его дыхания. Он вошёл медленно, глубоко, почти до упора... Елена закусила губу, чтобы не застонать в голос. Двигались тихо, осторожно, чтобы не разбудить старую женщину за стеной, но каждый толчок был как удар тока: он упирался в самую глубину, её стенки сжимались вокруг члена, пульсируя и плотно обхватывая. Она чувствовала знакомый орган — горячий, твёрдый, родной. Сын шептал в её ухо: «Мам… как я скучал… я не могу без тебя…», и от этих слов у неё кружилась голова. Кончилось быстро — он выдохнул, изливаясь внутри, она задрожала под ним, сжимая бёдра, кусая его плечо, чтобы заглушить собственный стон. Потом лежали молча, мокрые, сплетённые. Она гладила его волосы, чувствуя, как слёзы текут по щекам. Стыд накатывал волнами — едкий, чёрный, удушающий. «Я ужасная грешница, — думала она. — Я опять сдалась. Опять позволила. Опять предала всё, что пыталась построить». Утром она уехала раньше, чем он проснулся. Села в автобус, прижалась лбом к холодному стеклу и смотрела, как уплывает родной посёлок. Внутри всё сжималось от ужаса: "ведь снова не предохранялись... как и никогда!" Она всё ждала климакса — молилась на него, как на спасение. Но его не было. Только эта тянущая, знакомая пустота внизу живота. Через полтора месяца, дома, в своей небольшой квартирке, она достала тест. Руки дрожали, когда открывала упаковку. Сидела на краю ванны, смотрела, как медленно проявляется вторая полоска. Яркая, чёткая, безжалостная. Она не заплакала. Просто закрыла глаза и выдохнула: — "Господи… опять". Тест лежал на краю раковины, как приговор. Она знала: это его... Опять его. И опять её вина, её слабость, её любовь, которая не умеет умирать... Она сидела так долго, пока вода в кране не начала капать: мерно, безжалостно, как биение её собственного сердца. Через полгода, всё наконец успокоилось. Елена Викторовна встречалась с тем же военным, нормальным мужчиной. Павел настойчиво уговаривал переехать к нему насовсем. Но Елена пока не решалась, ждала когда сын обзаведётся своей семьёй. И вскоре, Артём по телефону, выложил радостную, для матери, весть. Он тоже, наконец нашёл девушку Олю и жил с ней гражданским браком в половине бабушкиного дома. Последний раз Елена была у своих родных на Новый год. Приехала со своим новым спутником, Павлом. Все остались довольны, хотя Артём ревновал сильно, но виду не подавал и пытался снова уговорить остаться. Она дала полный отпор! Переживёт... Теперь Елена Викторовна, старалась жить своей жизнью, держала дистанцию и надеялась, что время всё расставит по местам. Наверное так и будет... Они это выстрадали! 300 59987 211 1 Оставьте свой комментарийЗарегистрируйтесь и оставьте комментарий
Последние рассказы автора ZADUMAN
Инцест Измена Зрелый возраст Драма Читать далее... 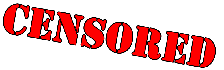
25371 648 9.95 |
|
Эротические рассказы |
© 1997 - 2026 bestweapon.net
|


|